Сквозь холод, ветер и тьму. Удивительные особенности жизни монахов на Русском Севере
Что делают монахи в монастырях? Молятся, трудятся, живут по особым правилам. Правила эти во многом похожи: монахам нужно поститься, нельзя есть мясо, нельзя иметь личных богатств, всё у всех равное, простое и дешевое, никаких излишеств. Но жизнь монаха в южном монастыре и жизнь монаха в монастыре северном имеют различия. Какие? Всё просто: на севере — холодно! Да так холодно, что выходишь в мороз — и глаза открыть не можешь, потому что на ресницах иней налип. А у кого усы — так на усах сосульки до подбородка. А вытащишь веревку — так она замерзнет и ломается, как палка. А выплеснешь на морозе кипяток из стакана — так до земли уже не капельки, а ледышки долетают!
Темно, морозно, сыро
«Ну и что! Подумаешь! — скажут многие. — У нас тоже иногда бывает холодно! Зимой иногда на градуснике минус пятнадцать. Минус двадцать даже! И снега много…»
Всё верно, вот только на Русском Севере не «иногда бывает» холодно, а «как правило» холодно. И морозы здесь зимой не «минус пятнадцать», а минус сорок пять, например. Даже минус пятьдесят. А нет мороза — так ветер с озера или с моря такой пронизывающий, такой штормовой, что дышать не дает, ледяной коркой покрываются и монастырские стены, и рыбацкие лодки, и бороды монахов, и волны захлестывают рыбаков и подступают к самым монастырским стенам, и льды наползают друг на друга, и пурга заметает кельи до самых окон… А зимой и осенью — дожди, распутица, погода меняется по десять раз на день…

А еще зимой на севере не только холодно — здесь темно! Потому что чем ближе к Полярному кругу, к Северному полюсу, тем меньше зимой солнца. Ближе к берегу Северного Ледовитого океана наступает полярная ночь — это когда солнышко зимой вообще из-за горизонта не показывается. А что значит — «темно»? Это значит, ничего не растет. Ни трава, которая для коров — сено, ни рожь, которая для людей — хлеб, ни морковка-капуста, ни груши-яблоки… Ничего не растет. Темно и холодно.
И еще это значит, что людям надо как-то в этой темноте обеспечивать себя освещением — не будешь же спать целыми месяцами, пока солнышка дождешься. Сейчас-то с этим проблем нет: включил электрическую лампу, и светло тебе, когда хочешь, как днем. А каково было северным монахам во времена, когда электричества не было? Свечи, лучины, лампады, масляные и жировые лампы — запасаться ими северным монастырям приходилось надолго! Про отопление вообще молчим: топить печи на Севере нужно было не только зимой, осенью, весной, но иногда и летом! А отопление — это дрова. Которые еще найди, напили, наруби и расходуй экономно, чтобы на все холода хватило!
Шуба, скуфья, ногавица
Чтобы не замерзнуть, надо тепло одеваться — это вам каждый северянин скажет. Во что монахи одевались раньше на Севере, чтобы было тепло? Ну, во-первых, у каждого было обычное монашеское одеяние — хитон, подрясник, ряса… Но кроме этого были еще теплые вещи. Монахам выдавались рубашки, кафтаны и шубы. Шубы, конечно, не богатые норковые и собольи, а простые — овчинные. Рубашки и кафтаны тоже не из дорогих тканей, а из грубого некрашеного сукна — сермяги. Зато теплые и крепкие. А как обветшают, то есть износятся совсем, то ветхую одежду можно было сдать и получить в монастыре новую.

У руководителей северных монастырей — настоятелей, игуменов — тоже была теплая одежда. Мы как привыкли? Все начальники ходят в дорогих и богатых одеждах. А раз настоятель — это начальник, значит, и одеваться должен как какой-нибудь боярин или даже князь… Но нет, у северных игуменов одежда была теплая, но простая. Например, основатель и игумен очень большого Кирилло-Белозерского монастыря преподобный Кирилл Белозерский ходил зимой в шубе не из пуха, не из меха, а из черных овчин. Эта шуба сохранилась до наших дней и находится в музее. Она современному человеку непривычная: сшитая мехом внутрь. Раньше так все шубы делали. А к горловине пришивали тёплый воротник, чтобы согревать горло. На голову игумен надевал монашеский головной убор, который назывался камилавка или клобук. Его делали из верблюжьей шерсти.

Были и другие монашеские головные уборы с необычными названиями, например, скуфья и треух. Скуфьи — шапочки с отворотом — шили из меха куницы, оленя или барана. А треухи — шапки с тремя «ушами», чтобы загораживать уши и шею — делали из лисьего, куньего меха или из овечьих шкур. Осенью и весной монахи могли надевать черные шляпы.
В холода мерзнут руки. Особенно в дороге. Раньше ведь машин не было, зимой монахи ездили на санях — это если по дорогам или по замерзшим рекам. А если по незамерзающему северному морю, то плавали на кораблях и лодках: карбасах, шняках, кочах… Так вот, в холода, отправляясь в дальний путь, монаху обязательно нужно было брать с собой рукавицы. Их тоже делали меховыми — из волчьей шерсти, из росомахи. А в монастыре грели руки в рукавицах из меха ягненка — мерлушки. Если морозы не очень крепкие, могли и простыми кожаными рукавицами обойтись.
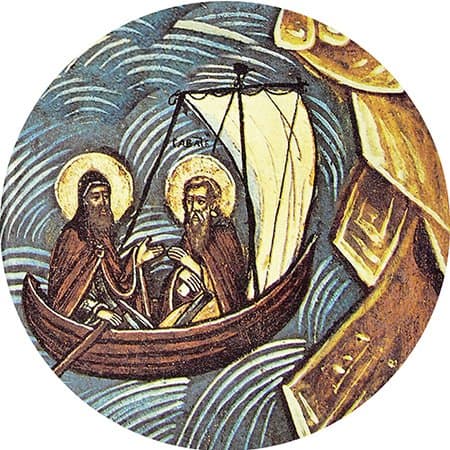
Мы в холода натягиваем на ноги разные колготы, рейтузы, упаковываемся в комбинезоны… В старину монахи тоже утеплялись, как могли: надевали «порты» (штаны) и чулки-ногавицы по колено — вязаные медвежьи и «валенные». На ногавицы — онучи, длинные широкие полоски ткани, которые наматывались на ноги, а сверху надевали обувь: сапоги или лапти.
Но об обуви — разговор особый…
Сапоги, канги, валенки
На северах ноги надо держать в тепле — это первое дело. И не только в тепле. Ноги монахам северных монастырей нужно было защищать от острых камней — на северных скалах их было много, от соленой морской воды, от колючих веток в лесу, когда приходилось заготавливать дрова, от глубокого снега… В общем, обувь должна была быть не только теплая, а и крепкая.

Монахи ходили в основном в сапогах. Хотя, если монастырь был небогатый, надевали и лапти, и «плесницы» (деревянные башмаки), и «калиги лычны» (башмаки из лыка). В морозы, конечно, лыко не согреет, да и кожаная обувь не всегда сгодится. Иноки надевали поверх сапог и башмаков канги: это как бы меховые «чехлы» из оленьих шкур с мягкой подошвой. Были и другие меховые сапоги — пимы, коты, торбосы, унты, яры (сапоги, сшитые со штанами). Монахи заимствовали всё самое полезное и удобное — и обувь в том числе — у северных народов, которые давно приспособились к суровому климату.

А как же валенки? Валенки тоже носили, но они появились позже, ближе к нашему времени. Их на севере еще называли «катаники», потому что их валяли — скатывали из овечьей шерсти.
Еда
А как с едой? Есть на Севере надо много. И еда должна быть питательная, сытная, чтобы и силу давала, и витамины, и — главное! — помогала согреваться. Но у монахов-то еда особенная. Мясо, сало им нельзя, в посты нельзя ни молока, ни сметаны… Сладостей много не положено. Это во-первых. А во-вторых, сама еда на Севере не такая, как на юге. Абрикосы с апельсинами здесь не растут. Пшеницу в северных широтах тоже не посеешь — она просто не успевает поспеть за холодное короткое лето. Овощи на камнях и песке, да в холоде тоже не очень хорошо растут. С заготовкой сена для коров, лошадей, овец — чуть попроще, но всё равно всего три месяца в году на сенокос, а заготавливать кормов для животных нужно много, на долгих семь-восемь месяцев…

Это называется зона рискованного земледелия. И чем ближе к Северному Ледовитому океану, тем земледелие всё более рискованное, потому что ранние заморозки, ветра, сырость, наводнения… А это значит, что зерно, хлеб нужно привозить сюда, на Север, из южных земель. Только дорог по дремучим северным лесам в старину почти не было: дорогами служили реки. Но реки не всегда были проходными и для лодок-кораблей, и для саней: весной или осенью лед вроде встал уже — кораблю не пройти, но он настолько тонкий, что саням тоже не пройти — провалятся. Вот и делай что хочешь: ни так, ни сяк хлеба в монастырь не доставить. Клади зубы на полку, жди пока лед или толще станет, или пока совсем сойдет.
Случалось, что монахам, особенно из маленьких монастырей, приходилось голодать. Были, конечно, крупные обители, в которых братья держали такое крепкое хозяйство, что и сами не голодали, и вокруг всех в деревнях и поселениях кормили. Такими были Валаамский монастырь, Кирилло-Белозерский… Или, например, Соловецкий монастырь, в котором и мельница своя была, и большая пекарня, и садки в Белом море — отгороженные камнями прибрежные участки, где рыбу выращивали и вылавливали, и коровы свои, и огороды, и солеварни… В солеварнях варили соль. Не для себя в основном, а на продажу. Продадут, а на вырученные деньги можно и зерно купить, с юга привезти, и другие южные продукты — хоть те же абрикосы с апельсинами…

Кстати, от солеварен была еще дополнительная польза. Для варки соли приходилось постоянно поддерживать огонь под огромными сковородами с морской водой, на которых выпаривалась морская соль — «морянка». В солеварнях было жарко. Монахи подумали — а чего зря теплу пропадать! — и стали направлять тепло из солеварен в… теплицы! Проложили трубы, нагревали воду, вода шла по трубам в теплицы, там поддерживалась нужная температура, и даже зимой к монастырской трапезе подавали свежие овощи и зелень.
Это всё, повторим, было в крупных, сильных северных монастырях. А вот монастырям небольшим, далеким от крупных городов или расположенным на маленьких островках, приходилось порой очень нелегко. Что же там ели монахи? Чем жили?
Им приходилось уходить за сотни километров за пожертвованиями. Если монастырь стоял на берегу моря, монахи могли «промышлять», то есть добывать, морского зверя — моржей, морских котиков, даже китов, и продавать, например, «рыбий зуб» — моржовый клык, который ценился дорого, или ворвань — китовый и тюлений жир, который в те далекие времена использовали для освещения и тоже охотно покупали.

Если вокруг монастыря были леса, то монахи собирали северную ягоду — бруснику, чернику, шикшу, морошку, заготавливали грибы, травы, где-то заводили пасеки и добывали мед… Холодными зимами чай с медом очень хорошо согревает! Правда, на одном меде и ягодах несколько месяцев темноты и морозов не протянешь, и братия всё-таки нуждалась в хлебе. В крайнем случае — в рыбе. Рыба спасала, выручала. Речная, озерная, а если монастырь у моря, то морская. Сельдь, треска… Треска поморам хлеб заменяла, и монахи, у кого обители были на морском берегу, с местных жителей брали пример, тоже треску готовили во всех видах: и жарили ее, и варили, и запекали, и солили, и вялили.
Отопление
У нас в квартирах и домах зимой тепло, потому что батареи горячие. В крестьянских домах раньше стояли печи. В кельях монахов тоже клали большие печи, или ставили маленькие печурки, или камины строили… Монахи — люди терпеливые и невзыскательные, привычные к жизни в суровых условиях, если прохладно в келье — ничего, могут и перетерпеть. Тем более что сами кельи всегда делали небольшими, чтобы не слишком много тратить дров на их обогрев.

Сперва у каждого монаха была отдельная келья — свой крошечный домик, который согревай сам, сам печку топи, сам стены и крышу латай, чтобы не было сквозняков… Позже придумали строить келейные корпуса: большие здания, в которых у каждого монаха — своя отдельная комнатка, а отапливает сразу несколько келий, несколько этажей, одна печка, и занимается отоплением специальный человек — истопник.
Но жизнь монашеская такова, что иноку много часов приходится проводить не в своей келье, а в храме, на богослужениях. Летом — ладно, а каково зимой? В замороженной церкви за несколько часов стояния окоченеешь, заболеешь, не о молитве будешь думать, не о Боге, а о застывших ногах и обмороженных щеках! Церкви нуждались в тепле.

Храмы в северных монастырях строили разные — деревянные и каменные, огромные, многоярусные, с хозяйственными пристройками или крошечные, на братию из нескольких человек. К каждому нужен был свой подход, чтобы даже в лютую стужу можно было молиться, сосредоточившись на главном и не отвлекаясь на холод.
Придумали строить «тройники»: сразу рядом — церковь «летнюю», просторную, которую отапливать не нужно, потому что там богослужения только летом проходят, церковь «зимнюю», которая отапливается, и колокольню. Зимняя церковь объемом поменьше, чтобы на отопление тратилось меньше дров. Стены у нее потолще, окошки крошечные, чтобы тепло не уходило. Если храм на болотистом месте стоит, то делали ему высокий подклет — нижний, цокольный этаж, — чтобы не отсыревал и не остывал в холода. Вообще, внутри зимнего храма всё приспосабливали для холодного и темного времени года.

Делали и по-другому: «зимний» храм устраивали на нижнем этаже, «летний» — над ним, на втором. Или, если здание каменное, могли на первом этаже устроить пекарню и трапезную, а трубы от нее провести по стенам на второй этаж. Теплый воздух от печей в пекарне расходился по стенам, в храме было тепло.
Иногда в больших соборах приходилось устраивать сложные системы отопления, делать две, три, четыре печи, например две — в храме, две — в алтаре. Чтобы хорошенько прогреть холодный храм, истопник тратил два-три дня, «нагонял тепло». А чтобы его «нагнать», надо не только полешек в печку кинуть, надо эти полешки наколоть, дрова для этого подготовить, а прежде их в лесу найти, спилить, деревья от веток избавить, погрузить на телеги или на сани, до монастыря довести, наколотые поленья в поленницу сложить, из печи золу вовремя выбирать, за состоянием труб следить… Непростое послушание — истопник. Когда большой праздник и много народу или когда важные гости в обитель приезжают — цари, бояре, митрополит, — нужно особенно расстараться, чтобы всем в храме было тепло и уютно.
С октября по май на Севере длится отопительный сезон. А не затопишь вовремя, пропустишь — не только монахам будет вред, а и самому зданию храма. Стены отсыреют, грибок по ним пойдет, плесень, станут разрушаться… Нельзя этого допускать. Ответственная работа — истопник.
Суровый северный край. Жить здесь непросто и сейчас, а в прошлые столетия лишь самые стойкие, самые сильные духом приходили сюда, поселялись в северных обителях и проводили здесь долгие, полные молитв и трудов годы. Но, как говорил преосвященный Гавриил, митрополит Новгородский и Олонецкий, именно эти северные земли «Промыслом Спасителя мира назначены для селения иноков». То есть здесь, в холоде, монаху спасти свою душу легче, чем в теплых краях. Главное — чтобы в душе тепло было.
Рисунки Галины Воронецкой
Источник: Журнал “ФОМА”
